

|
Медленная музыка отечественного постмодерна. М., Изд-во "Маска", 2012. Глава V. – с.203-237
Фарадж Караев: музыкальное созерцание и традиция Anschauung м.кузнецова  Смотри, он проходит мимо меня, прежде чем я увидел его, и изменяется, прежде чем я заметил это. Иов [1] Все образовавшееся сейчас же снова преобразуется, и мы сами, если хотим достигнуть хоть сколько-нибудь живого созерцания природы, должны, следуя ее примеру, сохранять такую же подвижность и пластичность. И.В.Гёте [2] Основное свойство живого единства – разделяться, соединяться, расплываться в общем, задерживаться на частном, превращаться, специфицироваться, проявляться, как свойственно всему живому, под тысячью условий, выступать и исчезать, затвердевать и растворяться, расширяться и сокращаться. Так как все эти действия происходят в один и тот же момент, то все они могут проявиться в одно время. Возникновение и гибель, созидание и уничтожение, рождение и смерть, радость и страдание — все это протекает во взаимодействии, все действует в одинаковом смысле и одинаковой мере; вот почему даже самое частное явление выступает всегда как образ и подобие самого общего. И.В.Гёте [3] — Я не припоминаю. — Но вы приходите. — Удаляясь. — Приближаетесь в этом удалении. — Оставаясь в неподвижности. — Вы пребываете в покое из-за мощного влечения к движению. — В покое без покоя. Морис Бланшо. Ожидание забвение Фарадж Караев — ярчайший композитор современности, обладающий уникальным авторским стилем и высочайшим композиторским мастерством. Его творчество, отмеченное большим весом созерцательной образности, в контексте нашей темы приобретает особую роль: медленные композиции Караева нельзя отнести ни к одному из описанных вариантов медитативности отечественного постмодерна — ни к восточному ритуалу, ни к новой сакральности, ни к неоромантизму. Интеллектуализм и чувственность, строгость техники и многомерность художественных смыслов, дуализм и статика, экспрессия и умиротворенность, аналитичность, семантическая многослойность и тонкая игра с традицией в условиях ярко индивидуального музыкального стиля — все это составляет сердцевину художественного мышления Ф. Караева, обогатившего традиции европейской медленной музыки плеядой выразительнейших сочинений. Среди них — Соната для двух исполнителей (для двух фортепиано, вибрафона, колоколов, препарированного фортепиано и магнитофонной ленты, 1976), Inmemoriam... (сюита для струнного квартета памяти Альбана Берга, 1984), десять вариантов фортепианной Постлюдии (1990), Четыре постлюдиидля симфонического оркестра (1990), являющиеся оркестровой версией Klänge einer traurigen nachtдля инструментального ансамбля (1989), TristessaII для двух оркестров (1980, использованы три фортепианные прелюдии Кара Караева), TristessaIдля камерного оркестра (1982), Вавилонская башня для инструментального ансамбля (2002), Hütbə, muğamvə surə (для 12 инструментов, магнитофонной ленты и солирующего тара, 1997). Хотя образы созерцания в его музыке подчас реализуются в сочинениях, опирающихся на восточное искусство (в качестве примеров здесь могут быть названы упомянутые Вавилонская башня и Hütbə, muğamvə surə), однако восточный ритуал вряд ли может быть обозначен в качестве определяющей традиции этих композиций. Об этом свидетельствуют и особенности концепций, и специфика сосуществования восточного и западного начал в обоих опусах, и, наконец, принципиально европоцентристская позиция самого автора. Обе Tristessa, напротив, в некоторых сущностных чертах перекликаются с интроспективной лирикой как одним из истоков медитативности — хотя, опять же, на свой индивидуальный лад: сфера лирического всегда лишена у Ф.Караева черт романтической риторики, ее особая чистота отчасти подобна лирике А.Веберна. Таким образом, специфический склад созерцательности в музыке Ф.Караева требует поиска особых научных дефиниций. Каковы же природа и генезис созерцательности в медленных сочинениях Ф.Караева? Ее неромантические, нерелигиозные «гены» и при этом очевидные европейские корни позволяют предположить, что она порождена духом новоевропейской музыкально-философской традиции. Аналитизм и аристократичность, тщательная продуманность всех уровней конструкции, рафинированность материала и тембрики, тончайшая детализированность партитур, опора на интрамузыкальную семантику, сама погруженность творчества Ф.Караева в стихию австронемецкого (будь то техника композиции или адресат посвящения, язык подзаголовка или выбор поэтического текста) — все это свидетельствует о том, что корни медленных композиций Ф.Караева следует искать в особой традиции созерцательности, актуализированной на рубеже XIX-XX веков (в частности, в творчестве авторов нововенской школы), а позднее проявившей себя и в других феноменах музыки XX века. Сама эта «новая созерцательность», по существу — некий промежуточный этап между позднеромантической лирикой и радикальной статикой второго музыкального авангарда. Однако она представляет собой нечто новое в том плане, что свободная игра музыкальных структур становится предметом уже не столько эстетического, сколько интеллектуального созерцания, порождая особого рода интеллектуальное наслаждение, как об этом писал еще А.Шенберг в «StyleandIdea». Эта традиция созерцательности, имеющая европейские корни и специфический набор музыкальных характеристик, в свою очередь, формировалась под мощнейшим влиянием современных ей философии, антропософии и теософии, а также испытала на себе воздействие традиции Anschauung (интеллектуального созерцания), определившей (через фигуру И.В.Гёте) весьма существенные черты творческого метода, в частности, нововенцев.[4] Какова же специфика гётеанского Anschauung? Постараемся выяснить самое существенное. Основу гётеанского метода созерцания составляют несколько операций, направленных на постижение сущности предмета, вещи, идеи. Начальный этап направлен на разностороннее выявление и осознание рассредоточенных, дискретных, гетерогенных гештальтов разной природы (Gestalt — нем. «образ, структура, форма, вид»), утаивающих и одновременно парадоксальным образом проясняющих сущностные черты исследуемого объекта, непрямым образом указывающих на него. Затем следует второй этап (Bildungen — нем. «становление») — синтетический, направленный на суммирование гештальтов, интуитивное осознание неочевидных упорядочивающих соответствий и связей между ними и формирование на основе этого путем синтеза живой, динамичной, качественно новой целостной картины, демонстрирующей объект созерцания в его непрестанном органическом становлении и уже осознанной взаимосвязи прежде разрозненных гештальтов. В конечном счете, гётеанский метод созерцания направлен на постижение некоего прафеномена (Urphanomen), который представляет собой наиболее глубокий и фундаментальный Bildung как некий продуцирующий природный принцип, лежащий в самой основе исследуемого предмета. Сам Гёте характеризует цель своего метода следующим образом: «главное понятие, которое, как мне кажется, должно лежать в основе при каждом рассмотрении живого существа и от которого нельзя отступить, состоит в том, что оно всегда остается самим собой, что части его находятся в необходимом взаимном отношении друг с другом, что в нем ничего механически, словно извне, не строится и не производится, хотя части его действуют вовне и изменяются под воздействием извне». [5] Подчеркнем, что свой метод Гёте не ограничивал областью естествознания — он полагал его вполне универсальным, действующим и в других областях, в том числе в искусстве; по мысли философа, внутренняя, скрытая жизнь произведения искусства, как и природы, есть деятельность изнутри наружу и обладает сходными с ней особенностями и структурой.[6] Научное осознание влияния описанной гуманитарно-философской традиции на музыкальное творчество пока еще только начинается, хотя все более частое обращение музыкознания к ней как к своеобразному ключу для объяснения музыкально-структурной метафизики отдельных авторов уже представлено рядом впечатляющих работ. Так, уже книга о Веберне В.Н. и Ю.Н.Холоповых (1984) содержит выход на близкую проблематику. Авторы, описывая лиризм как ключевое свойство художественного мышления Веберна, по отношению к его поздним работам пишут о более сложном и неоднородном образном строе, свидетельствующем о явном выходе композитора за рамки лирического в строгом смысле и требующем поиска новых научных дефиниций для описания подобных феноменов. «Метод Веберна субъективно продолжает оставаться методом художника-лирика. Однако объективные результаты действия метода дают повод обозначать характер его образности как философскую (почти что «научную») лирику … Такого рода совпадение высших проявлений художественного мышления с высшими проявлениями научного представляет собой необыкновенно интересное явление и достойно разностороннего специального изучения»[7](курсив мой — М.К.).Эти слова явно ориентируют на поиск необходимых дефиниций в научно-философском словаре, и здесь нельзя исключать, что понятие Anschauung, имеющее давние корни в европейской философской традиции, могло бы способствовать осознанию и прояснению сложных смыслов поздней вебернианской музыки и более полно осветить философские истоки его эстетики — тем более, что гётеанство А.Веберна вполне осознано в науке. Позднее появляются и новые научные опыты подобного рода. Например, в работе М.А.Аркадьева в одной из глав рассматривается созерцательное у А.Веберна в ракурсе гуссерлианской философии времени. Особый интерес вызывает не только сам междисциплинарный ракурс работы, заметно расширяющий существующие представления о философско-эстетических основах творческого метода А.Веберна, но и обновление М.А.Аркадьевым аналитической терминологии (в частности, введение им понятия «ретенциальная форма» по отношению к малым инструментальным формам А.Веберна, которые рассматриваются как структурное подобие процедуры переживания времени у Э.Гуссерля).[8] В сущности, речь идет о примере изоморфизма, демонстрирующего специфическую эквивалентность временнóго мышления композитора и философа. Отчасти предвосхищая дальнейшее изложение, подчеркнем, что М.А.Аркадьев акцентирует гётеанские корни философии Гуссерля, что в контексте нашей темы особенно важно. Анализ музыкально-структурного мышления А.Шёнберга как явления, развивающего гётеанскую идею изоморфизма и рассмотрение общей для обоих традиции Anschauungпредложены в статье С.Нефф.[9] В ряду работ, развивающих идею связей гётеанской натурфилософии с новоевропейской музыкой, назовем и статью О.В.Ярош «Западноевропейский монотематизм в контексте философии И.В.Гёте».[10] Вместе с тем заметим, что если по отношению к определенной ветви романтической музыки рассматриваемая взаимосвязь более очевидна и находится как бы на «поверхности», то влияние гётеанства на стили рубежа XIX-XX вв. (в частности, на традицию нововенцев), и тем более на позднейшую музыку XX-XXI вв. не столь очевидно и почти не осознано в науке. Завершая обзор работ, касающихся нашей проблематики, упомянем книгу Л.В.Климентовой, предметом внимания в которой стала тема созерцательного в поздней музыке Бетховена, рассмотренная главным образом сквозь призму немецкой идеалистической философии.[11] Поскольку ракурс главы напрямую затрагивает тему музыкального мышления, здесь нельзя обойти фундаментальный труд М.Ш.Бонфельда:[12] интеллектуальное созерцание в музыкальном творчестве, по сути, есть возможная конкретизация драматургического типа «мышление», предложенного ученым наряду с типами «повествование», «действие» и «созерцание». Мышление, как пишет автор, «характеризуется прежде всего повышенной требовательностью ко вниманию слушателя, заложенной в самом музыкальном тексте: максимальная сосредоточенность необходима, чтобы улавливать малейшие трансформации начального и последующих импульсов-событий, ибо каждое событие требует тщательной расшифровки (декодирования) «абстрактной» семантики субзнакового слоя и углубленного переживания вызываемых событием эмоций — так ощущается личностная напряженность непрекращающегося ток мысли, как правило, замедленного до такой степени, чтобы каждая деталь обрела особую выпулость и значимость, и, следовательно, был ощутим тот вес, которым наделяет ее целое».[13] Примечательны слова ученого, напрямую подводящие к сфере интеллектуального созерцания: «отдаленность художественной действительности от объективных (коллективных) жанров придает такой музыке черты «чистого мыслительного процесса», возвышающегося над миром реальных объектов, событий, лишенного на своем пути иных препятствий, помимо сложности самого процесса мышления, но, вместе с тем, отнюдь не теряющего особой глубинной эмоциональности, ибо … мышление находится в самой непосредственной связи с мотивирующей сферой психики, сферой эмоций, аффектов, влечений, хотя эта связь часто дана в скрытой, латентной форме. И все же вне тока «умных» эмоций нет и тока музыкальной мысли; полноценное восприятие такого мышления — это одновременно приобщение к особому миру духовно-эмоциональной жизни».[14] Итак, каковы же общие черты этой традиции созерцательности, объединяющие сочинения разных авторов XX века? Среди них — упомянутый неромантический и нерелигиозный генезис, рафинированность и одновременно аналитичность звукового материала, тембрики и техник композиции,[15] недискурсивность, отсутствие иллюстративной конкретики и программности, частая опора на австронемецкую традицию, значимость интрамузыкальной семантики и жанров «чистой» музыки, сложные типы контрапунктической работы, дуалистичность, вариантный метод развития, часто уходящий корнями в гётеанскую идею метаморфоза, тяготение к взаимообратимости горизонтали и вертикали. [16] В сочинениях такого рода часто можно наблюдать особую целостность, схватываемость, постижимость формы, где все детали связаны с единым целым, а постижение структурных и смысловых связей между ними становится залогом адекватного восприятия концепции. Веберновское «faßlichkeit» как высший закон выражения мысли, в сущности, корреспондирует с самой сущностью опыта интеллектуального созерцания в философии, основу которого от Парменида до Гуссерля составляет целостный нерационализируемый, недискурсивный опыт познания Бога, идеи, Абсолюта через восприятие некой вещи. Оттого частым в сочинениях такого рода является наличие некой символической идеи, декларируемой в подзаголовке или скрытой, которая обсуждается в процессе развития и определяет концептуальный план композиции. Ее роль могут выполнять абстрактные понятия и философские идеи, а ее смысл отчасти может быть уподоблен эмблеме в немецком барочном жанре betrachtungen, направляющей и конкретизирующей художественное содержание. Соната для двух исполнителей — яркий пример созерцательности в музыке Ф.Караева. Тембровое единообразие, строжайшим образом организованное тематическое единство (благодаря использованию темы-монограммы), опора на наименее процессуально-ориентированные типы тематизма (сонорика, пуантилизм, алеаторика), особая драматургия, в ходе которой постепенно обнажается концепционный смысл всего сочинения — все это обеспечивает образную и структурную монолитность композиции. Впрочем, Соната Ф.Караева отличается не только аристократической рафинированностью тембрики и совершенством конструкции, и в этом плане описательный анализ сочинения ничего не дает для понимания внутренней природы этой музыки. Ее главная особенность связана с наличием в Сонате содержательно-смыслового подтекста, глубинного «второго плана», определяющего концентрированность звуковой среды, символичность, монологичность, скрытую интенсивность музыкального смыслостановления. И именно этот подтекст обусловливает совершенно особый, ярко индивидуальный характер созерцательности в сочинении. Итак, начнем с конца. Сочинение завершает фраза «Ilovethissweetname», отсылающая к байроновскому эпиграфу к поэме «Мазепа». Эта английская фраза фигурировала и в черновом варианте «Полтавы» А.С.Пушкина, что в традиционном пушкиноведении обычно связывают с именем Марии Николаевны Волконской; имя «Мария», как известно, было дано Пушкиным и главной героине поэмы. Далее мы постараемся показать, что именно эта авторская фраза-цитата является важнейшим ключом, приоткрывающим смысловой подтекст Сонаты Ф.Караева и определяющим особенности функционирования музыкального материала как глубоко и тщательно закодированной системы. Внимательный анализ показывает, что ключевым интонационным, конструктивным и концепционным ядром композиции становится музыкальная монограмма e-a-d-h-a, точнее — M(i)-A-R(e)-(i)-H-A, соответствующая женскому имени «Марина». Здесь Фарадж Караев отступает от байроновско-пушкинской традиции, и в данном случае эта музыкальная монограмма скрывает за собой не имя Мария, как легко можно было бы предположить по пятизвучной теме, но имя Марина (данная монограмма может «читаться» двояко). Гармоничность, чистота и особая акустическая благозвучность монограммы определяются не только диатоникой и выразительной структурной красотой симметрии (например, в облике двух больших секунд вокруг чистой кварты — впрочем, возможны и другие симметричные структуры): помимо этого, в интонациях монограммы обращает на себя внимание и скрытая красота функциональной гармонической логики. Как здесь не вспомнить слова П.Флоренского из его работы «Имена»: «Мария (У Ф.К. — Марина) — имя всеблагоуханное, лучшее из имен, не только женских, но и всех вообще, совершеннейшее по красоте, а внутри равновесное (курсив мой — М.К.). Идеал женственности … Свет его ослепляет меня, и я говорю о нем в плане высшем. Это имя, которое ‘повышает мысль ума всю’ на план высший.…»[17] Именно эта тема определяет особенности материала, методы развития и специфику драматургии сочинения, имеющего отчетливо направленный к финалу крещендирующий профиль. Если в первой части присутствие этой темы скрыто в сложной игре интервальных обращений и рассредоточенности фактурно-регистровых пластов, то по мере развития бросается в глаза все более явственное проникновение монограммы в тематическую ткань Сонаты, ее постепенный выход на первый план и, наконец, поглощение ею всех иных форм интонационности. Статика и изысканная диссонантность одиночных звучаний, разреженных в музыкальном пространстве I части, отличается особой интонационной пластикой, а канонический «ансамбль отражений» двух фортепиано сообщает музыке пространственную многомерность, глубину и в то же время прозрачность. «Распыленность» ускользающих интонаций мелодики становится здесь статизирующим фактором, определяя кажущуюся неизменность музыкальной материи этой самой статичной из частей Сонаты. Однако регистровая разбросанность фактуры, охватывающей весь диапазон инструментов, выступает фактором центростремительным — отдаленность звучаний вкупе с медленным темпом нейтрализуют терпкость аристократической quasi-веберновской диссонантности, в итоге на первый план выходят порой вполне тональные «островки». Из всех частей Сонаты эта часть в наибольшей степени герметична, закрыта. Интонации монограммы рассредоточены в регистровых контрастах и зеркальных отражениях интервалов, они постоянно ускользают в сложных взаимозамещениях рельефа и фона. Впрочем, кажущаяся гомогенность, нерасчлененность рельефа и фона обманчива: звуки монограммы искусно вплетены в сложно организованную интонационную структуру. Например, в ц.ц.1-2 каждый из звуков монограммы маркирован динамикой mp и акцентами, что на слух едва ощутимо в условиях тишайшей динамической «глади»; в завершении же первой части контуры темы узнаются в пятизвучной реплике колоколов. Статику отдельных тонов во II части сменяет статика аккордов. Звучание двух ключевых созвучий части отличается импрессионистской красочностью, почти живописным ощущением цвета; в эстетизированном звуковом пространстве и запись детского плача воспринимается как новый тембровый нюанс, постепенно сливающийся с окружающим музыкальным «фоном».  В скобках заметим, что здесь обращает на себя внимание схожесть композиционного каркаса II части на основе двух аккордов и заключительной пьесы (№6) из Шести маленьких пьес А.Шёнберга (op.19):   Интонационный каркас монограммы во II части становится более «проявленным»: по-горизонтали и по-вертикали здесь обыгрываются ключевые интервалы монограммы; в окончании же части ее звуки уже отчетливо слышны в финальных репликах вибрафона, если обратить внимание на «белые», самые долгие ноты. III часть цикла вносит существенный контраст выходом на первый план новых параметров — динамического, регистрового, ритмического, но тяготение к диссонантности отсылает к первой части Сонаты. Сама атмосфера виртуозной контрапунктической игры способствует созданию эффекта статичного «движения по кругу», а оживленность темпа нейтрализуется скрупулезной аналитической выверенностью единообразных ритмических ячеек, заданной необратимостью их следования. «Управляет» же сложной контрапунктической структурой здесь вновь указанная монограмма. Часть открывает основанное на звуках монограммы созвучие a-h-d-e-a в низком региcтре фортепиано, исполняемое обоими музыкантами. Декларативность его подачи здесь tutta la forza вызывает ассоциации с некой музыкально-символической эмблемой, «комментарием» и «обсуждением» которой становится все последующее музыкальное развитие.  Действительно, в дальнейшем звуки монограммы пронизывают всю фактурную ткань — либо искусно скрытые в ее «изнаночных» контрапунктических слоях, либо отчетливо выходящие на первый план. Вслед за «вертикальным» вариантом монограммы, открывающим часть, затем она звучит в горизонтально-рассредоточенном облике (в ц.13 в ритмических группировках тридцатьвторых нот на основе 12-звучной серии у первого фортепиано (A1 B1 C1, A2 B2 C2, и т.д.) звуки монограммы выделены акцентами, как и позднее в ц.19). Затем монограмма обыгрывается в красочных сопоставлениях крайних регистров фортепиано с ц.14 и далее (ppp), она же звучит в ц.18, подчеркнутая декларативными авторскими буквенными указаниями к партии второго фортепиано — E-A-D-H-A. [18]  В партитуру, заключенную в круге (ц.19), также «инкрустированы» звуки монограммы. В финале Сонаты обращает на себя внимание буквально пронизанность музыкальной ткани звуками этой темы. В начале части опора на низкий, с трудом различимый регистр инструмента способствует тому, что на первый план вновь выходит «вертикаль» — сонорная красочность, общий гул звучания, а не «горизонталь» интонационно-тематической работы. Оттого не сразу заметным в этой своеобразной «музыке для глаз» становится то, что все «белые» ноты здесь, подчеркнутые акцентами, связаны со звуками монограммы - эта комбинация звучит пятикратно, что соответствует общему количеству звуков темы-монограммы.  Дальнейший раздел (ц.20) высвечивает новый композиционный потенциал этой темы: октавы, лежащие в основе каждого из четырех мотивов, заключенных в круге, связаны с тем или иным звуком монограммы.  Следующий затем парафраз романса М.И.Глинки — О.Фельзера «Я помню чудное мгновенье» интонационно опирается на звук «e» (начальный звук имени), начинаясь и завершаясь им.[19] Музыкальный материал последних двух страниц Сонаты связан почти исключительно со звуками рассматриваемой темы. На основе ее же интонаций звучит ритмически детализированная фигурация препарированного фортепиано; диатоника звуков темы-монограммы, лежащих в ее основе, каждый раз оборачивается хроматикой 12-ступенной серии. Сложная метафорика утраты и ускользания, проступающая сквозь эти структурные взаимопревращения, усиливает интенсивность и скрытую напряженность музыкального смыслостановления. Впрочем, монотематичность последних тактов финала Сонаты не абсолютна. Помимо темы-монограммы здесь особую роль выполняет звук «fis», вплетающийся в арабески темы-монограммы и вносящий в целое, по всей видимости, новый семантический нюанс. Возможно, окончание финала на звуке «fis» сопоставимо со своеобразным авторским вензелем. В свете сказанного раритетное авторское определение жанра сочинения как sonataperdueesecutori приобретает особый символический смысл. Как видно, драматургия сочинения отражает все более интенсивное от части к части внедрение этой своеобразной idéefixe — темы монограммы — в интонационную ткань Сонаты. К финалу пронизанность интонационно-тематических структур звуками этой темы становится почти абсолютной, вызывая ассоциации с полной погруженностью в ускользающий предмет созерцания, экстатической поглощенностью им, своеобразным эмоционально-чувственным «горением». По сути, в ходе развития материала раскрывается смысл веберновских «faßlichkeit» и «zusammenhang», если обратить внимание на очевидное движение художественного смысла от сокрытой потаенности и герметичной замкнутостиcosa in se[20] — к открытости, артикулированной ясности, отчетливости и постижимости. И подобно гётеанскому опыту созерцания, здесь приоткрывается, просвечивая сквозь звуки и краски, сама словно бы вегетативно-органическая природа и внутренняя жизнь музыкального развития, наглядно демонстрирующего путь от скрытого, латентного состояния — к проявленному, самообнаруживающемуся, постепенно раскрывающемуся и обнажающему собственную сущность, завершенному, словно бы «предугадывая неизвестное, но прозреваемое правило» (И.В.Гёте).[21] Имя МАРИНА раскрывается (расцветает?) к финалу во всей своей полноте, целостности и структурной оформленности, подобно гётеанскому цветку (dieBlume) как высшей стадии органического становления — или, если угодно, die blaueBlume.[22] В финале впечатление усиливает сама вертикальная устремленность формы, направленной от глубоких басов начала ко все более высокому регистру и своеобразной экстатике последних страниц партитуры, а также несомненное усиление роли динамического параметра. Использованный в Сонате парафраз из романса М.И.Глинки «Я помню чудное мгновенье» (заимствован из Сонаты для фортепиано О.Фельзера), эпиграф «NN…», также отсылающий к Пушкину,[23] и английская байроновская цитата в конце сочинения становятся единственными авторскими указаниями, приоткрывающими скрытый смысл и волнующий подтекст этой «инструментальной драмы» для двух исполнителей. [24] Постлюдия для Ф.Караева — один из наиболее значимых жанров. Как пишет М.С. Высоцкая, «в контексте его творчества постлюдия олицетворяет собой нечто большее, чем жанр, это — определенный комплекс представлений, своего рода концепт, лежащий в основе всей системы музыкального мышления композитора».[25] Десять вариантов фортепианной Постлюдии I (1990) представляют собой яркую энциклопедию тембрового мастерства Ф.Караева.[26] В основе Постлюдии II — лирическая рефлексия: как указывает М.С.Высоцкая, в основе материала сочинения — монограмма женского имени, пронизывающая всю звуковую ткань.[27] Жанр лирического послесловия определяет монологическую устойчивость образной «тональности», лаконизм языка, символическую насыщенность ткани в условиях медлительного становления художественной эмоции. Крайний динамический минимализм обусловливает интровертные качества образа. Принцип архетипичности проявляется в опоре на формы «первичной интонационности» — одиночный звук, интервал, «абстрактную» неизменную фигурацию, при этом на первый план выходит интрамузыкальная семантика материала. Дискретность, прерывистость, почти пуантилистическая «распыленность» музыкального языка, тем не менее, не создает ощущения разъединенности, разъятости звуковой материи — интегрирующим фактором становится образная однородность, определяющая целостность композиции. Субъективность лирической эмоции сглажена поэтикой ретроспективного чувствования, бытийственная «настоящесть» чувства ускользает в статике длящегося созерцания. «Ставшее прошедшее» время постлюдийного жанра определяет объективность эмоции и чистоту рефлексии, но хранит в себе и «остаточный смысл» — как бы «снятого», отсутствующего, остающегося «за кадром» лирического переживания. Трехчастный профиль музыкальной формы выстраивается как движение к «образу воспоминания» (цитате из песни Э.Грига «Я знаю одну маленькую девочку», ц.4) — и растворение его в возвращающихся арабесках темы-монограммы. 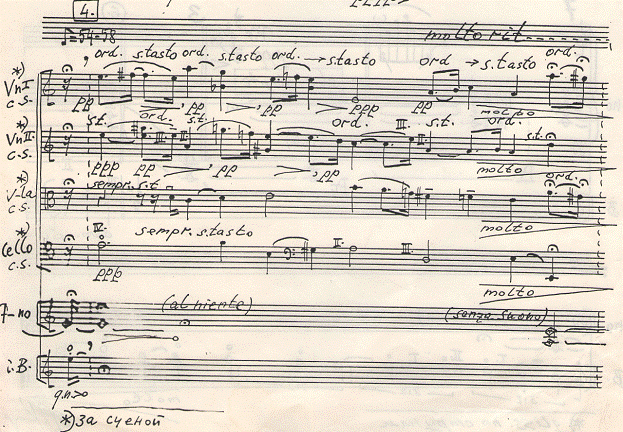 Впрочем, статика созерцания преодолевается подспудно ощущаемой процессуальностью, которая отражает скрытую «инструментальную драму» сочинения. В ее основе — взаимодействие двух начал: изысканно-рафинированной фигурации фортепиано, постепенно формирующейся в звуковой ткани (ц.2, alquasiniente), и контрапунктом к ней звучащего «голоса» контрабаса, повторяющего ее «слова» (ц.2, suonireale):   Однако «дуэт согласия» невозможен. «Речь» контрабаса часто вступает «поперек» фортепианной партии, слегка запаздывая; отстраненность «участников беседы» метафорически передает обилие фермат между «репликами» условного «разговора»; отсутствие динамических сопряжений между двумя неизменными образами также определяет статуарность аффекта. Постепенное преображение исходного диатонического облика темы фортепиано прекращает попытку неначавшегося диалога: «голос» контрабаса остается статично кружащимся вокруг исходной звуковой арабески (ц.2), «голос» фортепиано ускользает в ее вариантных хроматических повторах. В итоге незримый символический «сюжет» Постлюдии приобретает пронзительный лирико-драматический подтекст, полноценное осознание которого возможно лишь при условии постижения аналитических нюансов, смысловых связей сочинения и его имманентно-музыкальных «шифров», связанных с темой-монограммой. Иной объект созерцания представлен в симфонической постлюдии Ф.Караева The [Moz]artofelite для большого симфонического оркестра (1990), завершающей линию моцартианских партитур композитора.[28] Четырехчастный цикл двух предшествующих сочинений[29] редуцируется здесь до одной части — постлюдии, что определяет не только предельную сжатость и концентрированность мысли, но и обусловливает образный модус, связанный со сферой lamento,[30] поэтикой исчерпания, ожидания, ускользания, забвения, утраты. Так рождается напряженное «молчание» этой многоголосной симфонической партитуры, создаваемое повторами мелодической фразы отчетливой «финальной» семантики, теряющей самотождественность в бесконечности полигармонических и политональных имитаций; утраченной напряженностью кадансов, немотой риторических формул suspiratio, преображающихся в завершении сочинения в восходящие мелодические арабески с уже сглаженной, почти растворенной ламентозной семантикой. Концептуальный подтекст этой симфонической постлюдии, а также предыдущей камерной пьесы, как думается, может быть яснее осознан, если обратиться к жанровой природе сочинения и вновь, как это было в случае с постлюдийными сочинениями В.Сильвестрова, рассмотреть ее в ракурсе постструктуралистской философской традиции.[31] Напомним, что жанр постлюдии в силу своей особой эстетической природы принципиально зависит от контекста (то есть самого объекта созерцания, скрытого, но одновременно присутствующего в тексте, подразумеваемого — здесь им является текст Моцарта) и составляет с ним нерасторжимое единство. Таким образом, здесь налицо — напряженная диалектика присутствия и отсутствия,[32] взаимообусловленных и взаимоотрицающих, имеющих смысл исключительно в контексте друг друга — подобно гётеанским гештальтам, одновременно указывающим на объект созерцания и скрывающим его. Поскольку же отсутствие может быть понято и осознано в полной мере лишь через присутствие, которое на него указывает, постольку здесь само присутствующее отсутствие Lacrimosa (означающее) позволяет уточнить объект художественной рефлексии, скрытый в игре смыслов в подзаголовке сочинения. Здесь им становится, по всей вероятности, сама сущность музыкального (=artofelite)как постоянно ускользающего среди отсылок и референций некоего трансцендентального означаемого (Urphanomen), в свою очередь, опять становящегося означающим и отсылающего к последующему означаемому, и так вплоть до признания метафизического отсутствия всякого конечного означаемого, если вновь воспользоваться понятиями постмодернистской философии. [33] Четыре постлюдиидля симфонического оркестра (1990), являющиеся оркестровой версией Klänge einer traurigen nachtдля инструментального ансамбля (1989), представляют собой пример цикла, всецело ориентированного на созерцательный характер образности. Выразительные подзаголовки конкретизируют характер образности в каждой из постлюдий, выстраивающихся в драматургическую линию с оттенком diminuendo:tranquillamente, calmamente-nervosamente, fluttuante, meditabondo. Богатейшая традиция европейской «ночной музыки», связанной с образами размышления, рефлексии, созерцания, находит новое воплощение в цикле Ф.Караева. Одна из основ, определяющая целостность и единство цикла — важная конструктивная и концептуальная роль ряда интервалов, из которых по мере развития на первый план выходят малая и большая секунды, составляющие «ядро» начальной темы маримбы в первой Постлюдии (тт.1-7). Указанные интервалы определяют не только материал, но и влияют на форму, фактуру, драматургию цикла Постлюдий, а также определяют его ведущий эмоциональный модус. Одним из следствий важной конструктивной роли интервалов становится «обратимость» разных уровней цикла, а также образуемое порой единство горизонтали и вертикали. Этому способствует и активное использование полифонических методов развития (обращений, ракоходов, зеркальных отражений) и иных средств создания симметрии, интонационных арок и мотивных перекличек. Все это не только сильнейшим образом скрепляет музыкальную форму, но и определяет специфическую интеллектуальную «постижимость» музыки, близкую веберновскому faßlichkeit. В первой Постлюдии низкий регистр, мрачный оркестровый колорит, [34] узкие интонационные ходы, всепоглощающая повторность, единообразие материала, метрическая свобода — все способствует тому, что сонорный гул поглощает все формы интонационности, а на первый план выходит бесконечное «движение по кругу» начальной темы маримбы, предстающей по ходу развития в разном инструментальном оформлении. Именно она становится сквозной темой всего цикла. «Игра зеркальных соответствий» начинается уже в этой теме — как можно видеть, две ее половины словно бы «отражаются» друг в друге, обратимы ее отдельные такты, а ракоходный вариант темы завершает Постлюдию, внося в целое нюанс зеркальной симметрии. Бросается в глаза пронизанность интонациями этой темы всей фактуры части, разветвленная ткань инструментальных имитаций которой порождает что-то вроде бесконечного канона. Может ли эта часть быть названа траурной музыкой? Пожалуй, все звучащее целое первой Постлюдии, с характерной для нее нотой суровой сумрачности и напряженности, отсылает к этой образной сфере, однако обозначение «tranquillamente» парадоксально диссонирует с отчетливой музыкальной семантикой. Всепоглощающая статика этой постлюдии — то начало, которое не позволяет состояться траурной концепции, несмотря на то, что все средства выразительности и сам колорит звучания настойчиво отсылают к последней. Вторая, подвижная часть этой lamusiquedelanuitопирается на противостояние двух контрастных состояний (calmamente-nervosamente), ритмичные сопоставления которых, постоянные и словно бы необратимо-органические, подобны вдохуи выдоху.[35] Так контраст движения и статики реализуется в неожиданной форме тончайшего пленэрного ноктюрна, наполненного внутренним беспокойством и чисто европейским скрытым дуализмом. Он проявляет себя в сопоставлениях темповых нюансов и инструментальных реплик, комбинаторике формостроительства и всепоглощающей вариантности, зеркальной игре интервальных «отражений» и интонационной «обратимости» фраз. В этой игре тембров и красок не сразу становится очевидным сложно организованное единство по-горизонтали и по-вертикали внутренней структуры Постлюдии, пронизанной зеркальными контрапунктами и скрытыми мотивными «соответствиями» на всех «этажах» фактуры. По-горизонтали обращает на себя внимание построение формы на основе чередования тактовых ячеек, по-вертикали же бросается в глаза их варьирование, искусные полифонические трансформации и взаимозамещения.[36] Все это определяет тематическую целостность и монолитность пьесы, аналитичность и интеллектуальная выверенность всех планов которой становятся итогом изощренной контрапунктической работы. Учитывая сложно организованную структуру этой миниатюрной пьесы, длящейся менее двух минут, ее форма может быть сопоставлена с ретенциальной формой, предложенной М.А.Аркадьевым для характеристики инструментальных форм А.Веберна с позиций философии времени Э.Гуссерля. Как пишет автор, «глубинная задача ретенциальной формы — ее мгновенная схватываемость во всей ее трансцендентальной сложности, но с сохранением временных отношений. Это фаустианское «остановленное (задержанное) мгновение» или «атом», или «элементарная частица» — сложно организованная реальность». Фундаментальное свойство ретенциальной формы — ее особое слушательское восприятие: «мы должны научиться слышать эту форму так, как будто она сразу дана нам как единое, но при этом живое «временящееся» целое».[37] Нечто поразительно близкое мы можем наблюдать в структуре этой Постлюдии, отличающейся целостностью, схватываемостью, обратимостью различных уровней конструкции. Становление «живого «временящегося» настоящего» здесь чрезвычайно интенсивно, однако при этом парадоксальным образом становится очевидной и внутренняя сложность, неэлементарность, многомерность простых структур.[38] Осталось заметить, что в самом понятии ретенциальной формы, трактуемой таким образом, совершенно неоспоримы и гены гётеанского созерцания — Anschauung. Третья Постлюдия цикла в важнейших своих чертах отсылает к первой Постлюдии, с ее узкими интонационными ходами, низким регистром, остинатностью, элементами фугато, метрической свободой, педалью контрабаса, сонорикой как одним из следствий «тесноты» фактурного расположения партий и их тончайшей полиритмической «вязи». Подобно первой пьесе цикла, здесь также обращает на себя внимание пронизанность фактурной ткани ключевыми интервалами цикла и их обращениями.[39] Важно подчеркнуть особую драматургическую роль третьей Постлюдии, устремленной к «точке золотого сечения» — эпизоду Misterioso, где на первый план выходят узнаваемые интонации первой пьесы, ее звуковой облик и низкий регистровый колорит, акцентируя центральный образ цикла. Нельзя обойти здесь и еще один выразительный пример симметрии — «островок» полифонии на основе канона контрабасов с сурдиной (ц.4) в окружении других низких инструментальных тембров, симметричный и по-горизонтали, и по-вертикали: и аккорд, образующийся по-вертикали, и горизонталь каждого из голосов тождественны и опираются на главную тему цикла и ее ключевые интервалы. Как видно, по мере развития цикла принцип взаимосвязи всего музыкального материала становится все более неопровержимым. Диалог с первой частью цикла продолжается и в финальной Постлюдии Meditabondo, так отличающейся от всего, что звучало ранее — и, вместе с тем, теснейшим образом связанной со всем предшествующим. Многие ее аспекты позволяют говорить о новом синтезе, достигнутом в ходе развития, демонстрируя иной, преображенный облик уже прозвучавшего. Отличает финальную постлюдию особая направленность на восприятие, проясненность эмоции, концентрированность и лаконизм «веских» выразительных средств, обнажающих центральный образ всего цикла в его предельной созерцательности, отчетливой явленности, самообнаруживающейся открытости, постижимости, редкостной музыкальной красоте. Все это делает итоговую Постлюдию некоей summasummarum, хранящей в себе наиболее значимое, постоянное, неизменное и одновременно неуловимым образом ускользающее, преображенное, всегда становящееся. «Ирреальный», бесплотный высокий регистр уже выводит звучащее на некий метафизический уровень. Поэтикой преображений и метаморфоз уже прозвучавшего здесь наполнено все музыкальное развитие — упомянем начальный канон, основанный на напряженной игре больших и малых секунд; статичные педали, интонационную остроту хроматики и, наконец, выразительные фигурации-арабески вибрафона[40] как тембрового варианта маримбы (ключевого тембра первой Постлюдии), впервые в цикле представляющие сферу проясненной диатоники. Впрочем, и здесь ощутима некая фундаментальная для музыки всего цикла дуалистичность, связанная с сочетанием восходящего рельефа этих фигураций с нисходящими секундами в фактуре скрытых голосов. Нисходящий минорный тетрахорд, проступающий сквозь контуры этих фигураций, акцентирует в музыке острую ноту печали, а изысканность тембрики, разреженность фактурных слоев и игра регистровых контрастов при значимой роли высокого регистра определяют чистоту, прозрачность эмоции и, в то же время, ее пронзительность, усиливая чувство одиночества. Обращает на себя внимание выразительный диминуирующий профиль финала — этапы музыкального действия здесь представляют собой цепь все более медленных эпизодов, и эта стратегия постепенного темпового замедления сохраняется до конца композиции.[41] По мере развития все более редкими и короткими становятся фразы вибрафона и все более протяженными — канонические игры перечений и унисонов у струнных и деревянных духовых инструментов. Этот выразительный композиционный прием ярко передает эффект отдаления, угасания, растворения образа, теряющегося в далекой перспективе. В завершении вновь появляется хроматическая тема первой Постлюдии (у арфы и маримбы, ц.8), в контрапункте с которой звучит тема вибрафона в обращении у фортепиано — игра противоположностей и контрастов словно бы оборачивается новой метаморфозой и одновременно неким трудноуловимым парадоксальным тождеством, просвечивающим в переплетениях однородных тембров и сложной интонационной «мозаике». Так чисто европейская диалектика покоя и напряженности, созерцательности и тревожности, умиротворенности и беспокойства становится центральным образом этой ночной музыки, тончайшими нитями отсылающей к бартоковскому nightmusicstyle,[42] веберновской «структурной метафизике» (М.А.Аркадьев) и нежным образам ночной музыки Дж.Крама.[43] Предметом же созерцания в каждой из четырех композиций, таких разных и в то же время внутренне близких, становятся онтологические музыкальные структуры: звук, интервал, тембр, время, покой, движение, тишина. В сюите для струнного квартета памяти Альбана Берга Inmemoriam… (1984) специфику созерцательности определяет мемориальный характер сочинения, посвященного памяти австрийского композитора: звуки монограммы его имени обусловливают материал сочинения и его эмоциональный модус. В процессе созерцания приоткрывается неочевидный музыкально-символический подтекст монограммы композитора (A-B-A-B-E-G), ключевую роль в которой выполняет малосекундовая интонация a — b, чья функция в сочинении уподобима некоему конструктивному интервалу (как видно, она дважды повторена внутри монограммы, а также связана с начальными звуками имени и фамилии австрийского композитора). Таким образом, раскрытие неочевидных семантических коннотаций, музыкально-риторических подтекстов и смысловых связей «объекта созерцания» направлено здесь на обнаружение «внутренней интонационной драмы» темы-монограммы (с «заданным» в ней акцентом на ламентозной малой секунде и уменьшенном трезвучии e–g-b), что определяет остроту, интенсивность и эмоциональную напряженность опыта созерцания. Последовательное и всестороннее созерцание звуков имени создается непрерывностью интонационной работы, полифоническими методами развития, приемом attacca, сквозным развитием материала, переходящего из части в часть, кажущееся единообразие которого скрывает в себе множество семантических оттенков. Все это определяет континуальность драматургии, высвечивает красоту интеллектуальной логики композиционного решения. Первые четыре части построены на звуках a–b, представляя широчайший диапазон образных, интонационно-тематических, семантических нюансов сферыlamento (Инвенция на одну ноту, Первая интерлюдия на двух нотах, Интермеццо на трех нотах, Вторая интерлюдия на четырех нотах). В материале пятой части квартета, написанной в жанре похоронного марша с трио (на десяти нотах), «титульных» звуков монограммы уже нет. Сообразно заданному жанру, его интонационный облик определяет аскетическая хоральность крайних частей (на основе тонов e–g) и неожиданная импульсивность хроматического трио (с пропущенными тонами a и b — и это тоже пример упоминавшегося выше приема «значимого отсутствия»). Развитие незримого интонационного «сюжета» в финальной части приводит к звучанию всей монограммы целиком, к полной двенадцатиступенной тональности. Венчает композицию любопытное созвучиеc-e–b–g–as–des. Включающее в себя звуки монограммы, оно становится своеобразным «звуковым монументом» памяти Альбана Берга, снимая дуализм малой секунды и тритона в звучании почти до-мажорного трезвучия — однако ощутимый нюанс lamento вносит здесь скрытое присутствие двух малых секунд (des-c и as-g), словно бы бросающих «тень» на устойчивую тоническую квинту. Образами подобного рода, ориентированными на новоевропейскую традицию созерцательности, не ограничивается богатейшая сфера медленной музыки Ф.Караева. Например, Вавилонская башня для инструментального ансамбля (2002) демонстрирует редкий и необычный пример синтеза восточной идеи и западного рационализма. Как может показаться на первый взгляд, концепция пьесы уходит корнями в восточную традицию медитативной музыки XX века. Подобно восточной медитации, основу сочинения здесь определяет идея «созерцания» звука,[44] а специфику звукового колорита обусловливает неевропейский инструментарий с его тембровой терпкостью и интонационной нетемперированностью, музыкальный материал которого развивается по принципу свободной импровизации. Подобно восточной медитации, в драматургической структуре сочинения отчетливо выделяются этапы созерцания, экстатики, просветленности.[45] Однако определяющими качествами этой «медитации на тон d» становится вовсе не обманчивый «востокоцентризм», но, напротив — западный аналитизм и рационализм, западная дуалистичность концепции «между пародией и притчей», западная диалектика формы, по-западному дифференцированная тембрика и выполненная с поистине европейским тщанием тончайшая детализация партитуры. Западные корни обнаруживаются и в форме сочинения, представляющего собой редкий и парадоксальный пример сложного синтеза структуры восточной медитации и самой европейской из музыкальных структур — сонатной формы. Так, динамичная и репрезентативная экспозиция образа Востока вызывает аналогии с главной партией, следующее затем вступление образа Запада с его тихой лирикой струнных флажолетов — с побочной темой. Множество инструментальных реплик, следующие после этой условной «экспозиции», аллюзийно напоминают о разработочном разделе формы. Последующий же экстатический раздел имеет явную репризную функцию, что подтверждается и появлением музыкального материала экспозиции в варьированном виде, здесь же видим и характерное для репризы «преображение» облика побочной темы (наделение ее экстатическими чертами). Очевиден и кодовый смысл хорала. Основу символического «сюжета» пьесы составляют сложные макрокультурные взаимодействия между инструментами разных традиций как символическими репрезентантами Востока и Запада. Он раскрывается средствами инструментальной драматургии вторжений, искажений, замещений и неловких попыток диалога, которая складывается из игры тембровых контрастов и ладовых перечений,[46] микрохроматических нюансов и инструментальных контрапунктов. В итоге концептуальный план пьесы обнаруживает достаточно редкое для современной музыки явление: Восток и Запад здесь представлены как два полярных, чуждых, во всем противоположных мира, а итог сочинения характеризуют не единство и достигнутые гармония и целостность, а отчужденность, почти экзистенциальная разобщенность разных начал.[47] Так символическая идея babylon tower приобретает новый смысл в концепции Ф.Караева: подобно тому, как невозможно понять друг друга людям, говорящим на разных языках, невозможно и найти «взаимопонимание» Востоку и Западу. Для европейского композиторского сознания и стопроцентно западного типа профессионализма совместное их сосуществование уподобимо «музыкальному Вавилону»: хаосу, дисгармонии, нарушению баланса и равновесия. Оттого закономерным результатом «говорения» на чужом языке становится постепенная утрата идентичности «западным» началом, быстро теряющим себе-тождественность, «Восток» же остается идентичным самому себе. Подобный синтез представляет собой и Xütbə, muğamvə surə(«Проповедь, мугам и молитва», 1997). Несмотря на значимость восточных культурных знаков (в жанровом, структурном,[48] тематическом,[49] интонационном планах),[50] определяющим свойством этой тщательно детализированной партитуры является вовсе не ориентальное начало. Погруженное в постмодернистский художественный контекст, оно становится лишь элементом сложной картины, насквозь пронизанной западными музыкально-культурными смыслами, коннотациями и аллюзиями на техники письма. В этом плане заголовок пьесы скорее дезориентирует, чем направляет — вряд ли мусульманский ритуал становится здесь концептуальным «центром тяжести», и Фарадж Караев вряд ли был бы самим собой, если бы позволил себе подобный прямолинейный авторский ход. Парадокс здесь заключается в том, что Xütbə, muğamvə surə, несмотря на кажущуюся «восточность», в то же время неуловимо далека от восточного ритуала — пожалуй, как никакое другое сочинение Ф.Караева. И, в то же время оно, как никакое другое его сочинение, с редкостной остротой и напряженностью отражает глубинный экзистенциальный опыт одиночества как наиболее достоверной доминанты человеческого существования. Созерцательный образный строй сочинения не подлежит сомнению: его создают единообразие материала, медленный темп, лейттембровая функция маримбы и тара, сквозные интонации, диминуирующий принцип, лежащий в основе архитектоники композиции, всепоглощающая статика, определяющая драматургический профиль каждой из трех частей. Однако кажется, что предмет созерцания постоянно ускользает от слушателя — да и каким он может быть в сочинении, основные образные сферы которого постоянно сами ускользают от однозначных образно-стилевых и культурно-жанровых дефиниций, предпочитая постмодернистскую игру притяжений и отталкиваний, неочевидных стилевых подмен и откровенных образных модуляций, поисков и утраты идентичности? Итак, к чему же устремлено это созерцание? Как порой бывает у Ф.Караева, вопрос этот остается открытым, но, по всей вероятности, эту тайну скрывает звучащий в финале странный «диалог» суры Корана и темы маримбы,[51] вводящий неевропейскую жанровую основу композиции словно бы в некое новое образно-семантическое поле. Этот символический контрапункт суры Корана и темы маримбы воспринимается как концептуальный центр композиции именно благодаря напряженному диалогу, интуитивно ощущаемому в самом масштабе сопоставления одной из ключевых тем Корана и статичной диатонической мелодии, постоянно возвращающейся к тону fis. В данном контексте этот звук не просто ладовый устой — он словно указывает на некое метафорическое авторское присутствие в виде монограммы-вензеля.[52] Именно этот красноречивый диалог, возможно, приоткрывает скрытый смысл созерцания в одной из самых статичных и тихих композиций Ф.Караева, такой нехарактерной для автора[53] и, в то же время, такой неуловимо «караевской», «молчание» которой говорит больше, чем крик. Если же добавить к этому излюбленный автором сквозной для всей партитуры тембр маримбы (чье постоянство в партитурах Ф.Караева делает его неким тембровым композиторским «автографом»), то также и здесь ее явный личностный символический смысл и образное «преображение» в финале, возможно, способны прояснить семантические подтексты концепции.[54] Завершая разговор об интереснейшей музыкально-философской традиции и ее возможных «отголосках» в новейшей музыке, подведем некоторые итоги. Созерцательность медленной музыки Ф.Караева имеет ярко индивидуальную стилевую природу и сложнейший историко-культурный генезис при несомненной значимости новоевропейских культурных генов (даже в «восточных» композициях автора) — но при этом не романтических и не сакральных. Гётеанский изоморфизм, вариационность как отражение идеи метаморфоза (определяющая и микро-, и макроуровень формы, и все творчество Ф.Караева в целом);[55] значимость интрамузыкальной семантики, комплекс языковых и композиционных средств, способствующих созданию целостности и единства композиции (монограмм, конструктивных интервалов, буквенных шифров, цитат и автоцитат, полифонических методов развития, способствующих взаимообратимости горизонтали и вертикали) — все это определяет характерный для композитора сложный синтез предельной рафинированности и при этом строжайшей аналитичности. В сущности, с этой традицией созерцательности корреспондирует и философское новоевропейское созерцание, развивающее гётеанский стиль мышления. Здесь можно напомнить гуссерлианское эйдетическое созерцание, направленное на переживание и осознание смыслового образа предмета и его имманентных внутренних связей, приводящее к созерцанию сущности — а признание гётеанских корней феноменологической традиции, пожалуй, уже стало фактом современной философской парадигмы.[56] В завершении нашего эссе осталось заметить, что элитарность, с самого начала сопровождавшая эту традицию созерцательности и в музыке (с ее «огнем подлинного аристократизма», если воспользоваться выразительной метафорой Л.О.Акопяна),[57] и в философии как «высшей и самой строгой из наук» (по Э.Гуссерлю), не утрачивает своего смысла и в искусстве Фараджа Караева. Как целостный художественный феномен, оно исключительно элитарно; лежащий в его основе отмеченный сплав рафинированности и аналитичности создается аристократизмом звуковых миров и интеллектуальной красотой музыкального мышления, парадоксальностью подзаголовков с их многослойной семантической структурой [58] и запечатленным в них порой поистине философским напряженным вопрошанием — Istesgenug?.., Schönheit — utopie?, schnellzu/gvergangenheitoderisteinealtemusikschon/auchk/einemusik?/!И, возможно, не случайно именно в парадоксальном синтезе непреложной утвердительности и столь же очевидной скрытой вопросительности подзаголовка The [Moz]artofelite за характерной для композитора двойственной и двусмысленной игрой семантических структур и метафор слышится одновременно и творческое кредо Фараджа Караева, и определение самой сущности музыки, и ирония по поводу «thebestof…», и по-настоящему философская попытка обозначить истинное DerStandderDinge - положение вещей. [1] Эпиграф из библейской книги Иова к труду И.В.Гёте «Bildung und Umbildung organischer Naturen» («Образование и преобразование органических существ»). [2] Гёте И.В. Избранные философские произведения. — М., 1964. С. 70. [3] Гёте И.В. Из афоризмов и высказываний // И.В.Гёте. Избранные сочинения по естествознанию. — М., 1957. C.391-392 [4] Напомним, что сама гётеанская традиция мышления весьма интенсивно осваивалась и в науке, и в художественном творчестве рубежа XIX-XX вв., объединив множество имен — О.Шпенглера и Р.Штайнера, М.Шелера и Д.Хармса, М.Хайдеггера и X.-Г.Гадамера, Э.Гуссерля и нововенцев, П.Флоренского и, наконец, Б.Асафьева. [5] Гёте И.В. Метаморфоз растений. Второй опыт // И.В.Гёте. Избранные сочинения по естествознанию. — М., 1957. С.102 [6] Гёте И.В. Влияние новой философии // И.В.Гёте. Избранные сочинения по естествознанию. — М., 1957. C.379 [7] Холопова В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн. Жизнь и творчество. — М., 1984. — С. 236-237 [8]Аркадьев М.А. Хроноартикуляционные структуры новоевропейской музыки и фундаментальные проблемы ритма. С приложением редакции («синтетического уртекста») Гольдберг-вариаций И.С.Баха: Дис. … д-ра искусствоведения. — М., 2002. Гл.6. См. также: М.А.Аркадьев. Фундаментальные проблемы теории ритма и динамика «незвучащих» структур в музыке Веберна. Веберн и Гуссерль. Музыкальная академия. 2001, № 1, 2. Помимо упомянутых аналогий, тексты М.А.Аркадьева содержат еще ряд сопоставлений творческого метода Гуссерля и Веберна, касающихся, в частности, ключевых для обоих понятий вариации и редукции. [9] См. Нефф С. Шёнберг и Гёте: органицизм и анализ // Арнольд Шёнберг: вчера, сегодня, завтра. Материалы межд. науч. конф. — М.: МГК им. П.И.Чайковского, 2002. С.115-142. Позднее в истории музыки это понятие неднократно оказывается востребованным — назовем, например, текст В. Рима «Anschauung. Zur Psychologie des kompositorischen Arbeitens». [10] См.: Ярош О.В. Западноевропейский монотематизм в контексте философии И.В.Гёте // Музыкальная академия. 2010. №2. С.167-171 [11] Климентова Л.В. Созерцательное в камерных инструментальных циклах Бетховена. Очерки. — Нижний Новгород: Изд-во НГПУ им.М.Горького, 2005. — 50 с; [12] См.: Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. — СПб.: Композитор, 2005. — 648 с. [13] Бонфельд М.Ш. Указ. соч. С.126. [14] Бонфельд М.Ш. Указ. соч. С. 126 [15] Напомним, например, «лирическую геометрию» (П.Булез) или «структурную метафизику» (М.А.Аркадьев) Веберна, или отмечаемый Н.О.Власовой синтез «интуитивизма и рациональности» Шёнберга. См.: Власова Н.О. Творчество Арнольда Шёнберга: автореф. дисс. … д-ра искусствоведения. — М., 2002. [16] Напомним гётеанское «natur hat weder Kern, noch Schale» («у природы нет ни ядра, ни оболочки»). [17] См.: Священник Павел Флоренский . Малое собр. соч. Вып.1. Имена. — М., 1993. 319 с.
[18] Как указывает в партитуре автор, исполнение первого фортепиано здесь прерывается обозначенным в «квадрате» звуком второго фортепиано, взятым в любой момент, в любой октаве, с любым из указанных динамических оттенков; после затухания обозначенного звука первое фортепиано начинает следующий фрагмент. [19] Важный смысл имеет здесь и звук «fis» - как и далее, на последних страницах партитуры. [20] Вещь в себе (лат.) [21] Гёте И.В. Гёте-натуралист // И.В.Гёте. Избранные сочинения по естествознанию. — М., 1957. С.439. [22] Die blaue Blume (голубой цветок) — немецкий романтический символ идеала, томления и недостижимой мечты. [23] В связи с этим обозначением вспоминаются буквы «NN» из пушкинского Дон-Жуанского списка. [24] Как и в Сонате, сходное движение формы (от герметичности, диффузности, кажущейся внеструктурности — к ясной артикулированности художественного смысла) отличает пьесу Ф.Караева «SCHÖNCHEIT — UTOPIE?» для гитары соло, где развитие направлено от вариаций — к теме. Эта же композиционная идея характеризует и ряд других сочинений композитора, при этом ключевое значение в них приобретает и принцип вариации. [25] Высоцкая М.С. К портрету постороннего. Фарадж Караев // Музыкальная академия. 2009. №3. С. 137-146 [26] В творчестве Ф.Караева жанр постлюдии представлен и другими сочинениями. Упомянем здесь четыре Постлюдии для симфонического оркестра (1990), Постлюдию для симфонического оркестра "The (Moz)artofelite" (1990). Постлюдийным смыслом наделены пять разделов "Istesgenug?.." для ансамбля и магнитофонной записи (1993), Канон-постлюдия из «5 StückemitKanonsv. ArnoldSchönberg» для ансамбля (1998), IV часть Серенады «Я простился с Моцартом на Карловом мосту в Праге» для большого симфонического оркестра (1980), а также заключительный раздел «(K)einkleinesSchauspiel» для двух гитар и басовой флейты (1998). [27] Высоцкая М.С. Из аннотации к концерту органной музыки 04.11.2006 г. в рамках XXVIII Международного фестиваля современной музыки «Московская осень-2006». [28] Сочинение представляет собой редакцию серенады для большого симфонического оркестра «Я простился с Моцартом на Карловом мосту в Праге» (1982) и созданной годом позднее серенады для малого симфонического оркестра «1791» (1983). [29] Прелюдия, Фуга, Хорал, Постлюдия. [30]В основе материала Постлюдии — Lacrimosa Моцарта. [31] См. в связи с этой культурологической проблематикой раздел, посвященный постлюдийным сочинениям В.Сильвестрова. [32] Метафизика присутствия и отсутствия (la presence et l'absence), как известно, разработана в трудах представителей постмодернистской философии — У.Эко, Ж.Лакана, Ж.Деррида, Ж.Делёза, Ф.Гваттари и др. [33] Концепт трансцендентального означаемого восходит к постструктуралистским текстовым теориям и означает принципиальную невозможность, неосуществимость любой конечной текстовой семантики, ускользающей в игре отсылок. В итоге разрушается логоцентристская целостность текста, а наличие его конечного означаемого уже ничем не гарантируется и вообще подвергается сомнению сама его возможность. [34] Низкая маримба, альты, контрабасы, кларнеты и бас-кларнет. [35] И здесь вновь вспоминается гётевское: «соединенное разделять, разделенное соединять — в этом жизнь природы, … это вечная систола и диастола, вечные синкризис и диакризис, вдох и выдох мира, в котором мы живем, творим и существуем». См.: И.В.Гёте. Гёте-натуралист // И.В.Гёте. Избранные сочинения по естествознанию. — М., 1957. С.436. [36] При этом можно заметить, что в образующихся порой серийных рядах отсутствуют важные для ключевой темы цикла звуки, что здесь становится еще одним аргументом в пользу строжайшей аналитической выстроенности целого, а также напоминает о лотмановском принципе «значимого отсутствия» (означающем присутствие в системе при отсутствии в тексте). Впрочем, ключевые интервалы цикла присутствуют и здесь — и непосредственно (например, в т.4 обращают на себя внимание две малые секунды и малые терции, скрытые в аккордах скрипок), и в виде обращений. [37] См.: Аркадьев М.А. Хроноартикуляционные структуры новоевропейской музыки и фундаментальные проблемы ритма. С приложением редакции («синтетического уртекста») Гольдберг-вариаций И.С.Баха: Дис. … д-ра искусствоведения. — М., 2002. С.272- 273 [38] А вот слова А.Шёнберга, комментирующего конструктивные возможности миниатюрных форм: «Раз в пределах малого числа тактов невозможно очень интенсивно развивать структуры (Gestalten), то надо либо остерегаться использовать такие структуры, которые требуют развития, либо, как в афоризмах или же в лирической поэзии, обеспечить каждому мельчайшему элементу такое обилие связей со всеми прочими элементами, что самое ничтожное изменение в их расположении выявит столько же новых структур, сколько выявляют в ином месте интенсивнейшая разработка и интенсивнейшее развитие. Тогда эти структуры оказываются словно в каком-нибудь зеркальном кабинете: их всегда видно со всех сторон сразу, и связи их прослеживаются во всех направлениях». См.: Анализ четырех [оркестровых] песен op.22 (1932) // Арнольд Шёнберг. Стиль и мысль. Статьи и материалы. — М., 2006. С.363 [39] В самом начале сочинения обращают на себя внимание малые секунды в партии арфы; м.2, б.2 и м.3, лежащие в основе материала группы виолончелей и клавесина. Далее упомянем игру малых и больших секунд в партии бас-кларнета. В ц.2 инструментальная фактура пополняется ув.2 и м.3 (кларнеты, бас-кларнет и фагот), а в партиях альтов и вторых скрипок выходят на первый план обращения м.2 и б.2 (соответственно, м.9 и б.7). Композиционной красотой отличается нисходящий скрипичный пассаж в ц.3, крайние голоса которого движутся соответственно по малым и большим секундам, в среднем голосе чередуются оба интервала, целое же, как можно видеть, образует четыре вида трезвучий. Следующий затем контрапункт бас-кларнета и виолончелей расширяет амплитуду звучащего материала до двенадцати звуков и отличается своей интонационной логикой. Череду мотивных отражений и интервальных соответствий здесь легко можно продолжить. [40] Вибрафон вступает в разделеTristemente. [41] В начале последней Постлюдии четверть равна 63, но начиная с ц.1 и далее в каждой последующей цифре темп постоянно замедляется на две единицы, и в ц.7 четверть уже равна 48. [42] Цикл содержит неочевидные аллюзии на бартоковскую «Music For Strings, Percussion And Celesta». О последней напоминает характерный интонационно-ладовый облик ключевой темы, ее полифоническое развитие, отдельные тембровые особенности музыки и темповые обозначения. [43] Например, «Eine Kleine Mitternachtmusik» для фортепиано (2002). [44] Сам композитор определяет жанр сочинения как «вариации на звук «ре». [45] Этот этап связан со средневековым хоралом «На реках вавилонских», который в коде исполняют инструменталисты, однако это «просветление» оказывается иллюзорным: не он завершает сочинение, но символические репрезентанты Востока — тар и две кяманчи. [46] Важную роль здесь играет сочетание двух ладовых модусов — D-dur и d-moll. [47]Сочинение имеет две экспозиции — с образом Востока связана первая, открываемая прямолинейными пронзительными унисонами зурны, Запад же представлен вступлением струнной группы. Помимо тембрового контраста, «восточное» и «западное» характеризуются собственным комплексом выразительных средств. Первое отличают динамическая прямолинейность, опора на импровизационность, линеарность, горизонталь, значимость ритмического параметра, второе — опора на вертикаль, динамический минимализм, важность интонационного параметра и сонорики, стилевой синтез. [48] Каждая из трех частей композиции имеет определенный структурно-жанровый прообраз, явный или завуалированный. Например, мугам II части с его импровизацией тара опирается на классический образец жанра: сама идея восходящего поступенного движения, лежащая в основе партии тара, отсылает к ключевому принципу традиционной мугамной композиции — разумеется, если мыслить мугам как «явление широкого обобщающего характера, как принцип профессионального музыкального мышления народов Ближнего и Среднего Востока». См.: Еолян И.Р. Традиционная музыка Арабского Востока. — М., 1990. С.80. И.Р. Еолян характеризует базовый принцип мугама как принцип «последовательного динамического (и эмоционального) восхождения, «захвата» мелодических вершин и регистров… Показательно, что каждая звуковая зона, каждый последующий ладовый центр располагается выше предыдущего. Ведущая мелодия как бы «карабкается» все выше и выше к кульминационным точкам, опорам». См. : Еолян И.Р. Указ. соч. С.91. [49] Укажем на импровизацию тара в ладу Шуштер (II ч.) и 75 суру Корана «Аль-Кийама» («Воскресение») в финале (в записи), акцентирующую важнейшую тему Священной книги мусульман. [50] Интонационно-тематический уровень композиции демонстрирует сложное переплетение «восточной» и авангардистской лексики, их взаимные структурные замещения и семантические игры. Например, начальная тема первой части у маримбы, основанная на узких секундовых интонационных ходах, отсылает в равной степени и к авангардной стилистике, и к традиционной музыке Востока, а также, случайно или нет, к монограмме B-A-C-H. «Ударные» звучания фортепиано, обрамляющие трехчастную форму целого, вызывают и ритуально-архаические ассоциации, и одновременно отсылают к серийной технике. Явления подобного рода, свидетельствующие о специфической «полисемантичности» материала, возникают на каждом шагу в этой композиции. Более того — порой обнаруживается парадоксальная взаимообратимость форм материала, представляющих условный «Восток» и «Запад» (например, начальной темы маримбы и квази-серийных пассажей, впервые звучащих в исполнении двух гитар и маримбы). Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что и здесь не сразу очевидная игра метаморфоз лежит глубоко в основе всей концептуальной логики композиции. [51] Маримба вступает каждый раз на 0,5 секунды ранее окончания звучания записи молитвы. [52] В художественном мире сочинений Ф.Караева, где каждая деталь информативна и всегда имеет значение, вряд ли возможны подобные «случайные» совпадения — тем более что явления близкого рода уже описывались выше; впрочем, они не ограничены представленными примерами. [53] Нехарактерность сочинения для Ф.Караева не только в подлинности ритуальных составляющих композиции, но и в исключительности для его творчества самой темы Бога — пожалуй, это единственное прямое обращение к ней. [54] Если в I части интонации маримбы хроматизированы, основаны на узких экспрессивных секундовых интонационных ходах, то в финале ее характеризует уже интонационно-ладовая и ритмическая «выпрямленность», объективность художественной лексики — диатоника, интонационная простота, ритмическая лапидарность и ладотональная устойчивость. [55] Если вспомнить его склонность к редакциям собственных сочинений. [58] См. об этом, например, работы М.А.Аркадьева, в которых две философские традиции сопоставляются на основе общих понятий прафеномена и «Faßlichkeit»: Аркадьев М.А. Хроноартикуляционные структуры новоевропейской музыки и фундаментальные проблемы ритма. С приложением редакции («синтетического уртекста») Гольдберг-вариаций И.С.Баха: Дис. … д-ра искусствоведения. — М., 2002; а также: Антон Веберн и трансцендентальная феноменология // www.phenomen.ru [57] См.: Акопян Л. О. Музыка как отражение человеческой целостности // Музыка как форма интеллектуальной деятельности / Ред.-сост. М. Г. Арановский. М.: КомКнига, 2007. С. 70–81. [58] Например, «Klänge einer traurigen nacht», «Is est genug?», «Der stand der dinge», «Schönheit — utopie?», «Ton und verklärung», «Verklärung und tod», «Schnell zu/g vergangenheit oder ist eine alte musik schon/auch k/eine musik?/!» и, наконец, «The [Moz]artofelite». |
||
|